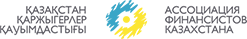О причинах снижения потребительского кредитования, необходимости спецпрограмм для ипотеки и ужесточении господдержки банков в условиях кризиса.

Автор: Гульмира Кунапия
Опубликовано 22 сентября 2025 на сайте Informburo.kz
Ссылка на публикацию: https://informburo.kz/interview/gaiki-zakruceny-do-predela-glava-afk-elena-baxmutova-o-zakonoproekte-o-bankax
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять закон о банках до конца 2025 года. Документ должен усилить конкуренцию, привлечь новых игроков и учесть развитие цифровых активов. Также глава государства подчеркнул необходимость вовлечения банковской ликвидности в экономику и создания стимулов для их активного участия.
Банковский закон переписывали более 140 раз, но только сейчас его решили заново собрать с чистого листа. Новый законопроект о госрегулировании унифицировал ряд базовых требований для всех участников финансового рынка – от банков до страховых компаний и МФО – и сделал регулирование более системным. На бумаге система стала стройнее. Рынок же считает, что гайки закручены до предела. На кону не только прибыль сектора, но и его способность кредитовать экономику, привлекать новых инвесторов в банковскую сферу и развивать финтех.
С председателем Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Еленой Бахмутовой корреспондент Informburo.kz поговорила о том, где проходит граница между необходимым регулированием и риском торможения развития сектора.
– Елена Леонидовна, какие положения законопроекта, по мнению АФК, окажут наибольшее влияние на деятельность банковского сектора в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
– Я бы отметила несколько ключевых изменений. Во-первых, это возможность создания "исламских окон" в универсальных банках на основании отдельной лицензии, а также возможность выдавать продукты жилстройсбережений универсальными банками. Во-вторых, расширены возможности банков эффективнее использовать капитал и участвовать в капитале других компаний, в том числе в МФЦА и за рубежом. И, наконец, важнейшее новшество связано с внедрением цифрового тенге и цифровых финансовых инструментов, что, на мой взгляд, окажет значительное влияние на работу банковского сектора и всего финансового рынка.
– Как вы оцениваете норму об участии банков в капитале других компаний? Чего, на ваш взгляд, ей пока не хватает и какие перспективы это открывает, в том числе для развития финтеха?
– Система консолидированного надзора над банковскими конгломератами в Казахстане имеет свои особенности: сегодня требования различаются в зависимости от того, является ли банк головной организацией или он состоит в холдинге в виде одной из сестринских компаний. Однако масса ограничений по инвестициям устанавливается именно для банка, если он выступает в роли родительской компании для прочих финансовых организаций, что, на мой взгляд, выглядит избыточным.
Если у банка есть избыточный капитал сверх нормативов, он мог бы использоваться для развития экономики, в том числе для инновационных проектов и венчурных инициатив. Международная практика, также как и казахстанская, предусматривает такие возможности при разумных ограничениях рисков. Поэтому, на мой взгляд, в новом законе о банках необходимо убрать лишние барьеры, чтобы позволить банковскому капиталу эффективно инвестировать в инновационные проекты.
Что касается финтеха, законопроект предусматривает возможность для банков создавать дочерние компании или входить в капитал финтех-структур. Такой подход выглядит современным и соответствует тенденциям развития рынка.
– Как в законопроекте регулируется участие банков в капитале финтех-компаний и вопросы конкуренции между ними?
– В Казахстане основные финтех-компании это и есть банки. Но сейчас возникло пространство для развития: Национальный банк отмечает взрывной рост небанковских платёжных организаций. С запуском цифрового тенге, платформу которого будет администрировать Нацбанк, у таких организаций появятся широкие возможности участвовать в его обслуживании. Введение понятия цифрового счёта, на котором будут учитываться цифровые тенге, даст серьёзный толчок для развития небанковского сегмента.
Мы еще увидим появление новых финтех-компаний, которые будут предлагать продвинутые сервисы по оптимизации расходов, размещению инвестиций, депозитов, осуществлению закупок и платежей просто на основе голосовой команды владельца. Для этого, конечно, необходим доступ провайдеров ко всем счетам клиента, что связано с серьезными рисками. Но, по мере проникновения искусственного интеллекта и развития технологий по защите персональных данных, такие риски будут эффективно контролироваться.
Кто будет лидером в этих процессах – банки или небанковскиме структуры – покажет время. Однако для защиты прав клиентов понадобятся значительные инвестиции в кибербезопасность и противодействие мошенничеству, защита персональных данных и технологии искусственного интеллекта. Небольшие компании ограничены в капитале, поэтому им сложнее конкурировать. Банки же активно инвестируют в новые технологии и, по сути, уже сегодня тестируют инновации.
Новый закон, в частности положения о цифровых финансовых инструментах, формирует хорошую платформу для дальнейшего развития. Сегодня все банки в Казахстане предоставляют возможность совершать банковские операции в онлайн режиме, в отдельных случаях, именно регулятор настаивает на сохранении личного присутствия клиента в банках, полагая, что это будет снижать риски мошенничества.
– Как АФК оценивает закрепление правового статуса цифрового тенге и готовность банковского сектора к его внедрению?
– Сегодня цифровой тенге уже находится в обороте в Казахстане. Закон закрепил его правовой статус. На первом этапе он существовал как пилотный проект в отдельных сегментах, а сейчас применяется прежде всего в целях контроля крупных проектов с использованием средств Нацфонда или бюджета. Это перспективное направление, которое будет развиваться.
Технология цифрового тенге пока дорогая, так как основана на блокчейне, поэтому её применение будет рационально там, где нужен дополнительный контроль. Банки готовы к работе с новой системой, однако платформа цифрового тенге принадлежит Национальному банку, и именно он определяет правила для участников. В числе участников могут быть не только банки, но и другие участники.
Глава государства в послании отметил необходимость более широкого внедрения цифрового тенге. Но важно понимать: цифровой тенге – это средство платежа, а не средство сбережения. Он является цифровым аналогом наличных денег: проценты на цифровые счета не начисляются. Эмитентом цифрового тенге является исключительно Национальный банк, и именно он несёт по нему обязательства.
Если депозит в банке – это обязательство банка второго уровня, то цифровой тенге, даже если он отображается в приложении банка, остаётся обязательством Нацбанка. Многие пока путают цифровой тенге с криптовалютой, но, думаю, скоро такие понятия станут общеизвестными.
– Насколько АФК поддерживает предлагаемые изменения в подходах к лицензированию и возможность дифференцированного лицензирования?
– Несколько лет назад, когда вносились изменения по открытию филиалов иностранных банков, СМИ активно интересовались, когда же они появятся. Однако прошло время, и ни один филиал в Казахстане так и не был открыт. Полагаю, что новелла по разделению лицензий на базовую и универсальную революционного воздействия на рынок также не окажет.
Базовая лицензии открывает новые возможности для микрофинансовых организаций (МФО) расширить поле своей деятельности. Сегодня МФО, в том числе кредитные товарищества не имеют права открывать счета и привлекать вклады. Новая базовая лицензия, в случае ее получения, позволит таким компаниям легально работать с привлечением средств клиентов, но уже в рамках надзора и требований к банкам.
Это позитивное решение, потому что привлечение депозитов – самый существенный риск на финансовом рынке. Базовая лицензия создаёт "входной порог" для новых игроков: с одной стороны, требования по капиталу мягче, чем у универсальных банков, с другой – клиенты защищены, так как компания работает под банковским регулированием.
Для действующих банков особых изменений не будет. Банки с небольшим капиталом должны будут выбрать стратегию: докапитализироваться для универсальной лицензии или остаться на базовой. Последняя ограничивает работу с нерезидентами, но зато открывает рынок для новых участников, обеспечивая при этом безопасность средств клиентов.
Хотя, если не будет устранён так называемый арбитраж, могут возникнуть риски. Например, когда лизинговые компании начинают активно работать с физическими лицами или появляются другие схожие с банковскими инструменты. Есть простой принцип: если деятельность несёт те же самые риски, то и регулирование должно быть одинаковым. Иначе возникает регуляторный арбитраж и, как следствие, "теневая банковская система". Важно, чтобы этого не произошло.
– Как, на ваш взгляд, должен выстраиваться поведенческий надзор в Казахстане, чтобы с одной стороны защищать интересы потребителей, а с другой – не поощрять недобросовестное поведение заемщиков и не увеличивать риски для добросовестных клиентов?
– Есть два направления регулирования. Пруденциальное регулирование связано с финансовой устойчивостью компаний и призвано защитить деньги, привлеченные от депозиторов. Поведенческий надзор же касается отношений с потребителями финансовых услуг и должен распространяться на всех – будь то банк, микрофинансовая организация, ломбард.
Но в проекте закона существуют определённые недостатки. Сейчас подход строится на жёстких правилах, что не всегда оправдано. Например, регулятор требует, чтобы в каждом банке было отдельное подразделение по защите прав потребителей, хотя активы крупнейшего и самого маленького банка отличаются в 720 раз. Важно не наличие формальных структур, а то, как защита клиентов встроена в бизнес-процессы, систему внутреннего контроля, насколько эффективно работает комплаенс служба. Тем более, что скоро значительная часть общения с клиентами будет происходить с применением искусственного интеллекта.
Ещё один недостаток проекта закона – недостаточное разграничение категорий потребителей. Защита должна быть направлена на физических лиц, берущих кредиты для личных целей. А вот индивидуальные предприниматели, по сути, ведут бизнес, берут займы на предпринимательские цели и должны восприниматься наравне с прочими субъектами бизнеса, к примеру в форме ТОО. Чёткое разделение подходов позволит, с одной стороны, надёжнее защитить граждан, а с другой – стимулировать кредитование бизнеса, на чём акцентировал внимание глава государства.
– Вы говорите о банках. А как обстоит ситуация с микрофинансовыми организациями, ведь именно они часто нарушают права потребителей?
– Регулятор сейчас устраняет арбитраж, и требования по работе с клиентами для банков и микрофинансовых организаций практически одинаковые. Они ужесточены до предела. Например, если у заемщика есть просрочка свыше 30 дней в банке, он не может получить новый кредит. В МФО правило ещё строже – даже один день просрочки блокирует доступ к новым займам. Я поддерживаю такую практику. Если человек хочет получать кредиты, он должен формировать положительную кредитную историю.
В западных странах без хорошей истории за последние пять лет кредит попросту не дадут. У нас тоже идёт движение в этом направлении. Сегодня около 82% населения уже имеют кредиты, финансовая грамотность растёт, и постепенно складывается новая парадигма: право на кредит нужно заслужить.
Конечно, потребители не всегда готовы к этому и удивляются, почему после погашения долга им всё равно отказывают. Если вы допускали регулярные просрочки даже на небольшие суммы, значит, вы ненадёжный заёмщик. Логично, что кредиторы откажут.
Что касается жалоб на незаконные списания или блокировки счетов, то здесь важно отметить: всё происходит в рамках закона. Если есть задолженность, её взыскивают через судебных исполнителей. Если отдельные МФО нарушают права клиентов, регулятор жёстко реагирует: приостанавливает или отзывает лицензии.
И вот тут есть принципиальная разница. Регулирование касается всех игроков рынка и обычно усложняет жизнь добросовестным компаниям, тогда как надзор работает точечно, то есть лишает доступа к рынку тех, кто злоупотребляет или ищет лазейки. Я считаю, что именно надзор должен быть ключевым инструментом избавления от недобросовестных кредиторов.
Проблема в том, что "гайки" уже закручены до предела. Дальше ужесточать смысла нет – мы видим снижение потребительского кредитования. Чуть растёт автокредитование и льготная ипотека, но в целом рынок охлаждается. И причина здесь не в банках или МФО, а в макроэкономике: инфляция свыше 12%, базовая ставка 16,5%.
– Кстати, на Astana Finance Day вы отметили, что процентный канал денежно-кредитной политики в Казахстане работает неэффективно и из-за параллельного существования рыночного льготного кредитования. На ваш взгляд, если льготные программы действительно мешают снижению, то какой здесь выход возможен?
– Их нужно постепенно сворачивать. Во-первых, они разрушают рыночную дисциплину заемщиков. Рыночные кредиты не могут выдаваться ниже, чем под 18–20%, принимая во внимание стоимость фондирования и кредитный риск заемщика, тогда как широкий доступ к льготным займам под 12,6% выглядит чрезмерно привлекательным. Во-вторых, компании разными путями будут пытаться получить заем по льготным ставкам, что приводит к избирательному подходу.
Выход здесь один – снижение инфляции. Пока она двузначная, всегда будет соблазн компенсировать её льготными программами. Господдержка, конечно, нужна, особенно для стартапов, сельского хозяйства, инновационных и экспортных компаний. Но это должны быть точечные меры. Массовое льготное кредитование, например, всего сельского хозяйства, искажает рынок и подрывает нормальные конкурентные условия.
– В данном случае вы не имели в виду ипотеку?
– Ипотека – инструмент сложный. Беря деньги на 15–20 лет, даже под относительно низкие проценты, заемщик в итоге выплачивает как минимум в два раза больше стоимости жилья. При текущих ценах это может быть и в три раза. Поэтому классическая рыночная ипотека остаётся доступной в основном для людей со средним и высоким доходом. Для граждан с более низким доходом она фактически неподъёмна.
Здесь нужны специальные программы. Пример – модель Отбасы банка или система жилищных сбережений: они позволяют людям планомерно накапливать и затем привлекать более доступные кредиты. В перспективе ипотечные программы должны строиться не столько на субсидировании ставок, сколько на рыночных инструментах с элементами господдержки, например, рефинансировании через специализированными агентствами по типу американских Fannie Mae и Freddie Mac. Такая модель позволит удешевлять ипотеку без искажения рынка и расширять её доступность.
– Вы упомянули лицензию жилищных сбережений. Что это означает? Отбасы банк больше не будет монополистом в этой сфере?
– Отбасы банк – это не только банк жилищных сбережений, но и институт развития. У него есть положительная история и доверие со стороны клиентов, поэтому я не думаю, что массово клиенты жилищных сбережений будут уходить куда-то ещё. Цель скорее не в том, чтобы забирать клиентов у Отбасы банка, а в том, чтобы банки могли выстраивать дополнительные программы, возможно, в партнёрстве с девелоперами. Институт сберегательных депозитов мог бы работать и в банках второго уровня, но при условии получения дополнительной лицензии.
Поэтому я не рассматриваю это как попытку "оторвать куски" от Отбасы банка. Он зарекомендовал себя как надёжный и эффективный институт, его опыт может быть примером для других.
– Как АФК оценивает норму, согласно которой государственная помощь теперь будет предоставляться только системно значимым банкам?
– В действующем законе нормы об урегулировании неплатежеспособных банков прописаны в несколько иной редакции. В проекте нового законы сам процесс взаимодействия с проблемным банком описан более детально. То есть участие регулятора в разрешении проблем банка с неустойчивым финансовым положением предусмотрено как в действующем, так и в новом законе.При этом, вхождение в капитал со стороны государства может быть разрешено только для системно значимого банка. Причины в том, что вероятность разрастания банковского кризиса и его переход в экономический кризис многократно возрастает при банкротстве именно системно значимого банка.
В первую очередь при урегулировании неплатежеспособного банка убытки должны понести его акционеры, затем кредиторы, и только после этого, в исключительных случаях, государство. В прошлых кризисах подход был разный: например, в 2007–2009 годах прежние акционеры фактически лишились собственности, а вот в 2015–2017 годах помощь оказывалась без полного соблюдения этого условия. Из-за этого, в обществе сформировалось мнение об избыточной поддержке банков. В новом законопроекте предлагается детально расписать принципы и процедуры оказания поддержки за счет денег налогоплательщиков.
Вместе с тем, в проекте предусматривается и новый механизм, позволяющий перекладывать убытки государства на все банки второго уровня. На мой взгляд, это слишком жёстко и не в полной мере соответствует международной практике. Да, банки тоже заинтересованы в недопущении разрастания банковского кризиса. Это справедливо, но также бенефициаром является и вся экономика, и все субъекты экономики. Поэтому перекладывать полную ответственность только на банки за предотвращение экономического кризиса – чрезмерно.
Казахстан имеет собственный опыт урегулирования кризисов, и просто копировать зарубежные нормы без адаптации нельзя. Думаю, правильнее сейчас зафиксировать это как принцип, но внедрение отложить и выработать более сбалансированный механизм совместно с профессиональным сообществом и международными консультантами.
– Какие риски для банковской системы вы видите в ужесточении налоговой и регуляторной среды, например в повышении минимальных резервных требований или увеличении налоговой нагрузки?
– Минимальные резервные требования – это инструмент денежно-кредитной политики. Национальный банк изначально говорил, что цель "связать" ликвидность в объёме около 3 трлн тенге, и сейчас эта цель практически достигнута. По сути, банки вынуждены размещать эти деньги на корсчёте в Нацбанке бесплатно, вместо того чтобы получать доход по базовой ставке. Если ситуация изменится, Нацбанк скорректирует и эти требования.
Что касается налоговой нагрузки, говорить о том, что она приведёт к серьёзным потерям или угрозе финансовой устойчивости банков нельзя, запас капитала у системы значительный. Но есть другой аспект: привлекательность банковского сектора для новых инвесторов, особенно иностранных. Если инвесторы увидят, что налоговая нагрузка у банков выше, чем в других отраслях экономики, они предпочтут вложиться в другие сегменты. А ведь именно капитал акционеров и прибыль банков напрямую связаны с возможностью расширять кредитование экономики. Поэтому логично, чтобы налоговая нагрузка на банки была равной с другими секторами, а не воспринималась как фактор, который их дестимулирует.
В обществе часто существует стереотип, что банки – самый высокорентабельный бизнес. Но статистика показывает, что есть отрасли с гораздо более высокой доходностью: строительство, логистика, IT, добывающая сфера. Банковский сектор не является лидером по прибыли, хотя именно он обеспечивает сохранность сбережений населения и бизнеса, и является основным источником оборотных средств для бизнеса.
Важно понимать: помощь, которая иногда оказывается банкам, на самом деле направлена не им, а их клиентам, вкладчикам и заемщикам. Если бы даже не системообразующий банк оказался в кризисе и пострадали бы клиенты, риторика общества изменилась бы моментально. Именно поэтому во всех странах существуют механизмы урегулирования, цель которых минимизировать последствия для клиентов и не допустить убытков налогоплательщиков.
Да, в прошлом у нас были ошибки: акционеров не всегда привлекали к ответственности, и это стало определённым недостатком регулирования. Но сам принцип должен соблюдаться: сначала убытки несут акционеры и кредиторы, и только в крайнем случае подключается государство. Это позволит сформировать более адекватное отношение общества к банкам: они не "зло" и не "добро", а важный сегмент рынка, который финансирует экономику.
И когда речь идёт о личных сбережениях граждан или оборотных средствах бизнеса, становится очевидно: все заинтересованы в том, чтобы банки были устойчивыми, хорошо капитализированными, с высоким уровнем прозрачности и корпоративного управления. Тогда отношение общества станет более солидарным, а банки будут восприниматься как важный драйвер экономического роста.
– Ваше отношение к процессу подготовки данного законопроекта: насколько учитывается, мнение рынка и что бы вы хотели видеть в итоге?
– Регулятор в целом обеспечил открытое обсуждение законопроекта, однако норма об ex post-механизме, когда банки должны покрывать убытки государства, была внесена на финальной стадии и не получила достаточной проработки. Поэтому, на мой взгляд, именно в этом вопросе требуется время для обсуждения с профессиональным сообществом и консультантами.
В остальном закон должен отвечать вызовам времени: быть готовым к цифровым финансовым инструментам, поддерживать развитие экономики не только через кредитование, но и через участие банков в капитале, а также сохранять баланс между защитой прав потребителей и защитой кредиторов. Только так можно создать условия для устойчивого роста банковского сектора и его ключевой функции – кредитовать экономику.